Дискуссия
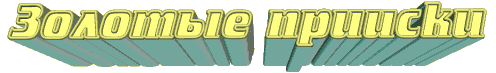
ЮЛИЯ АНДРЕЕВА

|
22.10.2001 |
Почему я не люблю поэта Иосифа Бродского
Сохранившийся, наперекор всему, полуинтеллигентный быт коренных петеребуржцев и голодные переселенцы из обнищавших до дикости окрестных сел, неизбывный траур по убитым и замученным, и химера нового величия, народившаяся из победы над немцами - все смешалось в домах, откуда облонских похватали и зарезали пролетарии. Невиданное нигде больше по России богатство и разнообразие Елисеевского магазина пятидесятых, державшееся на полном отсутствии денег у деревни и нищенской зарплате рабочего люда, воздух, который буквально хрустел на зубах в наполненных угольным дымом и черной пылью окраинах, трущобы вдоль невыносимо смердящего Обводного канала, зеленая от непонятной химии речка Волковка, именуемая приезжими скобарями Вонтяловкой, заболоченные туберкулезные окраины и тщательно вылизанный дворниками центр. Падшее величие Невы, соединяющей самое большое в Европе, холодное, синее и глубокое Ладожское озеро с самым мелким и мутным заливом моря Балтийского. Профессоры в старомодных пенсне, которых еще не сменили шустрые, малограмотные и подловатые рабфаковцы, доценты, время от времени забывавшие что латынь и греческий уже не знакомы дурно одетым и часто дурно пахнущим студентам. Спокойный, в отличие от взбаломошной, истеричной, населенной жадными до воровства приезжими Москвы, Петербург походил на ржавый корабль, дни которого сочтены, но который еще поражает своим исполинским корпусом и черными дымными трубами. Как хриплый патефон в каюте тонущего корабля, в этом городе продолжала жить поэзия, наследуя хрупкую ржавчину начала века, которая неискушенным казалась серебром. ... И, взойдя на трепещущий мостик, Вспоминает покинутый порт, Отряхая ударами трости Клочья пены с высоких ботфорт, Или, бунт на борту обнаружив, Из-за пояса рвет пистолет, Так что сыпется золото с кружев, С розоватых брабантских манжет... Может быть, особенно подходил к выморочному петербуржскому быту пятидесятых больной талант Блока C офицерами блудила, С солдатьем теперь пошла Подражая Блоку, пел еврейский мальчик Саша Кушнер: Сентябрь окольными путями Предъявит городу права И вот опять меня потянет На острова, на острова Я знаю, там погода хуже И заунывней ветра вой, И желтый лист глядит из лужи Змеиной плоской головой... Другой еврейский мальчик, Иосиф, не менее талантливый, но менее образованный пел голосом потоньше, но все ту же песню: Рыбы зимой живут. Рыбы жуют кислород. Рыбы зимой плывут, задевая глазами лед. Туда. Где глубже. Где море. Рыбы. Рыбы. Рыбы. Рыбы плывут зимой. Рыбы хотят выплыть. Рыбы плывут без света. Под солнцем зимним и зыбким. Рыбы плывут от смерти вечным путем рыбьим. Рыбы не льют слезы: упираясь головой в глыбы, в холодной воде мерзнут холодные глаза рыбы. Рыбы всегда молчаливы, ибо они -- безмолвны. Стихи о рыбах, как рыбы, встают поперек горла. А вот что пел русский мальчик в тот же час: В озере вода прогнулась серединой вниз От холодной сильной рыбы на воде круги. Змеи, рыбы, холодная вода - поэзия ржавого корабля. Не все выдержали искушение бросить тонущий корабль. И не всем, удалось остаться поэтами. Я пытаюсь понять, почему я не люблю поэта Иосифа Бродского. � |
|
18.10.2001 |
|
|
17.10.2001 |
|
|
15.10.2001 |
|
|
14.10.2001 |
|
|
11.10.2001 |
|
|
11.10.2001 |
|
|
11.10.2001 |
|
|
07.10.2001 |
|
|
06.10.2001 |
|
|
06.10.2001 |
|
|
06.10.2001 |
|
|
05.10.2001 |
|
|
03.10.2001 |
|
|
01.10.2001 |
|
|
01.10.2001 |
|
|
01.10.2001 |
|
|
30.09.2001 |
|
|
30.09.2001 |
Америка и сегодня продолжает поддерживать мерзавцев, взорвавших дома в Москве и Волгодонске |
|
27.09.2001 |
| Архив Обозрения | Добавить статью |
Редколлегия | О журнале | Авторам | Архив | Статистика | Дискуссия
© 1999 "Русский переплет"
